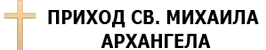Не утопии, а обетования и пророчества. Проповедь отца Хосе Марии Вегаса, C.M.F, для 2го воскресенья Адвента
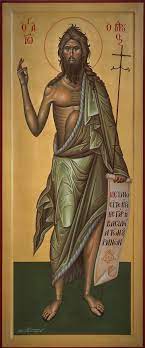
Современный мир, исторический цикл которого, как кажется, завершается в начале этого столетия, характеризуется утопизмом. Современный человек не стремится предвосхитить Царство Божье на земле (это, пожалуй, было стремлением людей Средневековья), он стремится завоевать будущее собственными силами, опираясь на научно-технический прогресс или революционные действия. Для утопического движения характерна туманная уверенность в том, что идеал, к которому стремятся, на самом деле, недостижим. Недаром само слово «утопия», выбранное Томасом Мором для описания идеального общества, означает «ни в одном месте» («нигде»). Однако более или менее явное убеждение в том, что цель никогда не будет полностью достижимой, не умаляло завоевательного порыва, поскольку считалось (как выразился Кант на чисто теоретическом уровне), что утопическая идея выступает в качестве «идеала», путеводной звезды, к которой человечество приближается в бесконечном и непрерывном процессе.
Говорят, что мы переживаем период перелома, характеризующийся концом утопий. Великие утопические усилия человечества наталкивались на пределы человеческие и этого мира, в котором мы живем. Идеал бесконечного научно-технического прогресса столкнулся с ограничениями, налагаемые ресурсами Земли и экологическим равновесием, которое оказалось более хрупким, чем можно было ожидать. Не отказываясь от прогресса в этой области, мы понимаем, что он должен идти в тех направлениях, которые сдерживают его в определенных граница. Нечто подобное произошло и в социальной сфере. Великие социальные эксперименты, которые проводились без учета традиций, ценностей и прав отдельных групп людей, привели к невыразимым ужасам и страданиям, имевшим место на протяжении 20-го века, и отчасти мы все еще страдаем сегодня от многих из последствий тех экспериментов. Этот так называемый Постмодернизм подобен пробуждению от сна, ставшего кошмаром. Искушение, которое угрожает нам сейчас, – это искушение исторического пессимизма: читать историю исключительно в негативном свете, подчеркивая множество зол, которые влияют на нас или угрожают нам, и закрывать себя от надежды. Или, если мы не отказываемся от надежды, мы можем понимать ее в исключительно «религиозном», индивидуальном, «частном» смысле (как многие, в том числе и прогрессисты, хотят видеть жизнь веры), в стороне и вне связи с событиями истории, смысл которых они считают безвозвратно потерянным или совершенно автономным по отношению к вере.
Второе воскресенье Адвента, открывающее цикл об Иоанне Крестителе, дает нам ключи к открытию новых возможностей, которые, глядя на негативные элементы мира и истории, дают нам основания для надежды, действующей на эти элементы, хотя эти возможности исходят из измерений, выходящих за их пределы.
Евангелист Лука помещает начало пророческого служения Иоанна в очень конкретные исторические рамки, где он не жалеет деталей: далеко в Риме императором является Тиберий; его делегатом в Иудее является Понтий Пилат; местная власть находится в руках Ирода, его брата Филиппа и некоего Лисания; религиозная власть представлена Анной и Каиафой. Кажется, что это просто историческое описание, простая хроника для того, чтобы обозначить во времени событие, которое действительно интересует евангелиста. Но на самом деле в этом описании есть оценка ситуации, которая отнюдь не является положительной. Тиберий, «печальнейший из людей» (Плиний Старший), отличался жестокостью и моральной испорченностью; Понтий Пилат не отставал от него в жестокости, а Ирод не отставал и в том, и в другом. Анн и Каиафа, связанные между собой семейными узами (Анн был тестем Каиафы), представляют религиозную власть, лишенную истинной веры (саддукеи не верили в воскресение) и основанную на союзах с политической властью (ведь оба были назначены первосвященниками римской властью). Картина, которую рисует Лука, не может быть более мрачной, а историческая оценка – более негативной. Далекие и близкие политические, а также религиозные силы приглашают к чему угодно, только не к надежде. Не зря все эти персонажи так или иначе причастны к смерти Иисуса на кресте, на что, скорее всего, и указывает Лука.
Однако евангелист хочет призвать нас не к отчаянию. Напротив, в этой мрачной обстановке сверху пробивается луч света: «был глагол Божий». Силы этого мира, какими бы негативными или злыми они ни были, не могут заглушить Слово Божье или ограничить Его суверенную свободу. Если эти силы отворачиваются от Бога и Его замыслов, Бог находит другие каналы, через которые он может достичь людей. Слово Божье пришло к Иоанну, обычному человеку, а не к одному из тех, кого история, видимым образом назначила совершать великие дела: сыну пожилого священника низшего ранга. Слово не пришло ни в Рим, великую столицу, ни в Иерусалим, где находится храм…, но звучит «в пустыне». Пустыня – это место избрания и испытания, место, где Израиль сформировался как народ, получил завет и услышал обетования. В Евангелии от Иоанна, в пустыне, Бог обновляет первоначальный религиозный опыт Израиля и начинает предупреждать об исполнении этих обетований. Предвестники их исполнения изменяют душевное состояние, и те, кто скорбел и падал духом, приглашаются встать и облечься в радость. Об этом напоминает нам пророк Варух.
Божьи обетования – это не далекая утопия, которую невозможно исполнить, не просто «идеал», который никогда не станет реальностью. Напротив, их реализация возможна, потому что инициатива исходит от Самого Бога. Его слово врывается в нашу историю. Оно ищет собеседников, которые примут его и передадут дальше. Иоанн, по сути, не остается в пустыне: это важное место, но это место – часть пути; пустыня и слово побуждают нас отправиться в путь и передать то, что Бог хочет сказать нам.
Мы можем попытаться перенести исторические обстоятельства Иоанна на наши собственные. Опыт и служение Иоанна говорят нам о том, что даже сегодня, посреди исторических событий, которые часто вызывают пессимизм, необходимо быть внимательным к Божьим вторжениям в историю. Бог продолжает говорить, и для того, чтобы слушать Его слово, нам необходимо иметь опыт пустыни: знать, как отстраниться от повседневного шума, открыть пространство для тишины и слушания, не позволять обманывать себя ни ложными обещаниями спасения, ни видимостями, которые говорят, что от истории нельзя ожидать ничего хорошего. В пустыне мы переживаем то, что Бог говорит в мире и в истории, и с теми, кто живет в мире и в истории. И тем самым Он говорит нам, что существуют новые, более высокие, беспрецедентные возможности, доступные для одних только человеческих сил. Они имеют свою ценность и должны реализовываться. Речь идет не о том, чтобы презирать усилия по приобретению знаний (философия, наука, технологии) или установлению свободы и справедливости. Пренебрегать этим – значит пренебрегать дарами, которые Бог дал нам. Но уповать только на свою жизнь и притворяться, что мы можем спастись только своими силами, забыв об их источнике, значит впадать в злополучный утопизм и новую форму идолопоклонства.
Разочарование постмодернизма можно понять как ситуацию, открывающую новые возможности для Слова Божьего. Но это слово, прорывающееся в наш мир сегодня, ищет собеседников, которые примут его и распространят. Слово – это всегда диалог и, следовательно, сотрудничество. Оно не является основой чисто индивидуального или внутреннего опыта, но устанавливает связи, открывает пространства общения и сообщества. Сам Иоанн не был одиночкой, вокруг него собирались ученики. Многие ученые считают, что среди них был и сам Иисус. Павел также представляет нам сегодня свое служение как общее дело, в котором Бог, начавший в нас добрую работу (вопрошание, диалог, провозглашение), Сам доведет его до конца.
Это слово, которое также врывается и в нашу жизнь сегодня через пророка Варуха, Павла и Иоанна Крестителя (через евангелиста Луку), приглашает нас слушать и пророчествовать, быть реалистичными и надеющимися читателями истории, вмешиваться в историю силой этого самого Слова через личное и общественное обращение (у всех нас есть вещи, которые нам нужно изменить) и через взаимное прощение. Пророк – это не тот, кто провозглашает себя пророком, а тот, кто позволяет Слову Божьему бросить себе вызов, кто передает его без компромиссов, даже когда это неудобно, кто позволяет этому Слову прояснить его взгляд, чтобы увидеть в нашей беспокойной истории знаки Божьего присутствия, и кто знает, как передать надежду, потому что его голос стал эхом Слова, которое продолжает приходить. Только так, лично и как сообщество учеников (в Церкви), мы станем пророками примирения и прощения, Богом изливаемыми на нас. Таким образом, мы будем готовить пришествие Бога в смиренной человечности Иисуса Христа, в Котором Божественность стала близкой и доступной: «узрит всякая плоть спасение Божие».