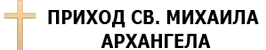Искушения Иисуса и наши искушения. Проповедь о. Хосе Марии Вегаса, C.M.F. на 1 воскресенье Великого Поста
 Три дня назад мы начали время Великого поста через обряд очищения и покаяния пеплом, ставя перед собой цели, связанные с постом, милостыней и молитвой; иначе говоря, с целью улучшения наших отношений с самими собою, с другими и с Богом. Но, начав, мы почти сразу обнаруживаем нашу слабость, которая особенно проявляется в искушении. Вот почему Слово Божье в это первое воскресенье Великого поста предлагает нам поразмышлять об этой такой человеческой реальности, которую, поэтому, также переживает и Христос.
Три дня назад мы начали время Великого поста через обряд очищения и покаяния пеплом, ставя перед собой цели, связанные с постом, милостыней и молитвой; иначе говоря, с целью улучшения наших отношений с самими собою, с другими и с Богом. Но, начав, мы почти сразу обнаруживаем нашу слабость, которая особенно проявляется в искушении. Вот почему Слово Божье в это первое воскресенье Великого поста предлагает нам поразмышлять об этой такой человеческой реальности, которую, поэтому, также переживает и Христос.
Рассказ из книги Бытия просвещает нас о сущности искушения и греха. Рай – это мир (мир без греха, безусловно, будет раем), центр рая – это человек, вершина творения, которому Бог доверяет свою работу. В этом центре «запретное дерево». Что это за дерево, единственное с которого человеку запрещено есть? Понимается ли оно, как тест на верность человека Богу? Но разве это не было бы жестом недоверия? Или, что еще хуже, ловушкой. Потому что, если хорошо подумать, что плохого в том, чтобы есть с дерева, пусть и самого центрального, как это? И если вместо вкушения с дерева было бы запрещено пересекать черту? Но мы не должны понимать Божьи заповеди как произвол. Давайте не будем забывать, что это дерево познания добра и зла: живая реальность, которая приносит плоды и находится в центре сада, это нравственное сознание. Человек обладает совестью, спонтанно и более или менее ясно отличает добро от зла. То, что он не должен есть плоды, означает, что он не может распоряжаться нравственным порядком по своему желанию и не может произвольно изменять его значение. Нельзя, например, сказать, что «лгать для него это хорошо, так как ложь делает его хорошим». Человек может лгать по любой причине, но он не может сделать лживость (вранье) добродетелью.
Рассказ также говорит о искусителе, хитром змии: искушение исходит не от Бога, но от сотворенной реальности: от дьявола посредством бессознательного, или воображения, или окружающей среды… Человек чувствует подстрекательство преступить нравственный порядок, распорядиться им по желанию, «быть как бог», делая чтоб было хорошо только то, что ему подходит. В этом есть элемент слабости: мы не совершенны, мы должны совершенствовать себя, подчиняя свои наклонности самым благородным требованиям. Тогда это было бы своего рода естественное искушение. Но, кроме того, иногда в искушении возникает обман, будто плохое станет хорошим, и, что еще хуже, что мы будто имеем возможность изменить значение добра и зла по нашей прихоти, становясь маленькими божками, наделенными способностью творить. Это более радикальное искушение, связанное с гордыней, является делом дьявола, искусителя и отца лжи (ср. Ин 8:44).
На самом деле, в таком обмане всегда ощущается что-то хорошее. Искуситель не говорит нам делать то, что плохо, но хитро рисует нам это как что-то хорошее: дерево было «хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание» (знание, сила, удовольствие …). Мы можем спросить себя: что плохого во всем этом? В этих благах, как таковых, нет ничего плохого. Плохое состоит в том, что мы выбираем их за счет благ более возвышенных. Иногда «то, что нам хорошо», может привести к нарушению того, что хорошо само по себе. Мы согласны с тем, что нельзя получать удовольствие за счет достоинства другого человека (например, унижая его). Незаконно получать относительные блага (сами по себе, возможно, законные: удовольствие, деньги, престиж, власть …) ценой абсолютных ценностей, таких как правда, верность, справедливость, права или заслуги других. Все нравственные суждения, которые мы делаем ежедневно в том или ином смысле, косвенно подразумевают эту связь с обманом. Поэтому в искушении всегда присутствует элемент лжи или обмана: «Подлинно ли сказал Бог: “не ешьте ни от какого дерева в раю?”», что сегодня легко переводится, например, говоря, что «Церковь единственное, что делает, это все запрещает» и тому подобные вещи.
Искуситель не является причиной греха, поскольку искушение не является грехом. Это зависит от нашей свободной воли. Грех происходит только тогда, когда мы даем наше свободное согласие (если бы не было свободы, не было бы греха). Наша культура, следуя Руссо, настаивает на том, чтобы обвинять во зле других (цивилизация, экономика, окружающая среда, биология и так долгое и т.д., но никогда я: это они меня провоцируют). Верно, что есть факторы, которые смягчают или усиливают ответственность. Но что нельзя сделать, так это полностью опустошить человеческую свободу, когда речь идет о виновности, в то время как, когда речь идет о нашем капризе и нашей прихоти, эта же самая свобода поднимается до высшей инстанции. Мы можем определить грех как свобода выбора, отвергая при этом ответственность: я делаю то, что хочу, но я не отвечаю, так что, если что-то не так, виноваты всегда будут другие. Библейское откровение и христианство утверждают свободу человека, но в качестве ответственной свободы (какой она и является).
История, которую нам сегодня рассказывает книга Бытия, реальна как сама жизнь, она является истинным архетипом человеческого существования всех времен.
Об ответственности нам говорит и Павел. Подчеркнем только один аспект из его текста: когда мы делаем добро или зло, это не остается в исключительной сфере моей личной жизни, но имеет последствия (к лучшему или худшему) для всех остальных. В этом смысле все грехи являются «первородными», потому что они становятся отправной точкой цепи, которая испускает свои вредные волны вокруг себя. Адам и Ева – мужчина и женщина, человек, каждый из нас. Но одинаково и с большей мотивацией, добро, которое мы делаем, увеличивает поток добра человечества и всей истории. Как видим, ответственность появляется вновь. Делая добро, человек становится христианином, независимо от того, знает он это или нет, потому что он отвечает на вдохновение Духа Любви, дышащего там, где Он хочет и во все стороны. Эта истина стала плотью в Иисусе Христе, так что мы можем присоединиться к благотворной и искупительной силе Того, кто подвергся искушению чтобы побороть грех изнутри.
Иисус возведён был Духом в пустыню, начинается Евангелие сегодня. Это происходит после крещения в Иордане. Там Иисус услышал голос, который назвал Его «Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». Почему именно после этого Иисус идет в пустыню ведомый Духом? Разве не было достаточно опыта в Иордане? Эта последовательность действий отражает закон жизни, особенно в религиозном опыте: Бог свободно выбирает нас, а мы должны Ему ответить, выбрав Его, и этот ответ должен преодолеть огромные трудности и искушения, это настоящая борьба, путь через пустыню. В Иисусе, сын Божий, но и человек во всей полноте смысла, это тоже так. Поэтому, эти искушения являются не только конкретными опытом, которые Иисус однажды чувствовал и преодолел навсегда, но и постоянными искушениями всего Его служения, которые также являются основными или осевыми искушениями, которым подвергаются все люди.
То, что камни могут превратится в хлеб, – это искушение, связанное с нашими потребностями и нашими слабостями, чтобы использовать власть, которая у нас есть (и все имеем какую-нибудь: ответственность, способность принимать решения, знания и т. д.), для нашей собственной выгоды, а не для того, для которого нам это дали. Искуситель говорит: «Если ты Сын Божий …» Искушение иногда хочет убедить нас, льстя нам: эй, ты же директор, для чего тебе дана ответственность, кроме того у тебя тоже есть свои нужды, ты тоже имеешь право получить выгоду, использовать для себя эту власть… Но камни – это не хлеб, и я не имею права менять вещи просто ради собственной выгоды. Ярким примером является «взятка», полицейский или чиновник, или кто бы то ни было, кто злоупотребляет своим положением, чтобы получить дополнительные выгоды.
Во втором искушении («бросься вниз») мы сами стараемся искушать Бога. Вновь, «если Ты Сын Божий»: если ты верующий и Бог существует, то делай это или то … Какая польза от веры в Бога, если потом тебе не будет лучше, чем другим? Иисус мог иметь искушение совершать чудесные вещи, чтобы повысить свое признание у людей. Иногда Его явно искушали в этом смысле другие, такие как Ирод, который попросил его совершить чудо. Иисус всегда отказывался искушать Бога, использовать Его силу как магию или зрелище, чтобы идти по пути легкого успеха. Он никогда не совершал чудес, чтобы вызвать веру, но вместо этого требовал веры как условия для исцеления, освобождения, прощения. Вера – это условие, а не следствие Божьих чудес, и не может быть сделкой.
Третья ситуация – искусительное предложение: искуситель предлагает Иисусу то, что он действительно хочет: весь мир. Иисус хочет завоевать мир для Бога. Но искуситель предлагает достичь этой хорошей цели, преклонившись перед злом. Это частое искушение (действительно дьявольское) пытаться достичь хороших целей плохими средствами. Это теория, защитная или осуждаемая, но так часто используемая, что цель оправдывает средства. Это значит поклоняться перед злом и обоготворять его, ему поклоняться.
Иисус избрал другой путь: Он не пользуется преимуществами, не ищет легких аплодисментов и не объединяет себя со злом. Он выбирает Бога, подчиняется Его воле, идет по крутому пути и входит в узкую дверь: это путь без компромиссов в служении, в правде и отдаче, путь, который ведет Его в Иерусалим, где Он отдаст свою жизнь на Кресте.
Это путь аутентичности и истинных благ, долговечных и спасающих нас. В Иисусе мы видим, что, хотя искушение является неизбежным, не неизбежно поддаваться ему. И если иногда очень трудно преодолеть искушение, объединившись со Христом, победившим искусителя, это становится возможным. Если мы иногда чувствуем, что наша слабость больше, чем наша решимость и воля к добру, мы всегда можем вернуться к доброму Учителю, который подвергся искушению ради нашей любви, и получить прощение от Него, «ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». (Евр 4:15).
Перевод: Алексей Сниховский