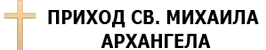Совершенная любовь. Проповедь о. Хосе Марии Вегаса на 7 воскресенье рядового времени

Сегодняшнее Евангелие завершает раввинское учение Иисуса о законе, которое мы начали на прошлой неделе. И именно здесь мы видим, до какой степени учение Иисуса в Нагорной проповеди бесконечно превосходит предписания античного закона, и в какой степени приводит к почти немыслимому совершенству. Если заповедь любви является сердцем нового закона Евангелия, то любовь к врагам является ее наиболее радикальным выражением. Но, можно спросить, настолько ли радикальна эта новизна, что невозможно найти что-либо подобное не только в Ветхом Завете, но даже в других религиозных или нравственных взглядах? Первое чтение как раз отвечает на это, относительно Ветхого Завета. Текст книги Левит является явным призывом к любви и отказу от ненависти, призыв на который опирается сам Иисус, чтобы выразить суть закона и его основной заповеди (ср. Мф 22:39), и это ясно показывает до какой степени Новый Завет подразумевается в Ветхом. Но также в других религиях и нравственных системах есть аналогичные призывы к всеобщей любви. Не вдаваясь здесь в подробности, можно было бы процитировать некоторые предписания буддизма и стоической этики. И это не должно удивлять нас, призыв к любви не является абсолютно прерогативой Евангелия, потому что любой, кто имеет открытый разум и сердце на месте своем, может понять, что любовь предпочтительнее ненависти, и что в любви, а не в злобе, мести и насилии, человек находит свой жизненно важный покой, свою совершенную реализацию и, в конце концов, свое спасение. Но мы можем задать еще один вопрос. Является ли «приказ» к всеобщей любви, которая затрагивает даже самих врагов, чем-то реалистичным? Не отрицая красоты идеала, реальная жизнь часто побуждает нас считать, что речь здесь идет о приказе, который невозможно осуществить. Святость, к которой призывает нас текст книги Левит и совершенство, к которому призывает нас Иисус, могут хорошо подходить для Бога (в котором идеальное и реальное совпадают), но не для нас, несовершенных, слабых и ограниченных. Возможно, по этой причине некоторые из религиозных и нравственных позиций, которые также призывают к любви ко всем (например, упомянутые буддизм и стоицизм), предлагают, в качестве способа достижения этой благодати, принять позицию бесстрастия, которая, действительно, защищает нас от страдания путем равнодушия, но кто, если может быть и воздерживается от того, чтобы делать зло кому-либо, вряд ли сможет по-настоящему и активно любить любое существо.
На самом деле, великое новшество, которое мы находим в библейском откровении, уже из Ветхого Завета, состоит в том, что, как это ни парадоксально, заповедь любви не является этическим требованием, нравственной нормой, которую мы должны «исполнять» силой воли, иногда сжимая кулаки и стиснув зубы. Это скорее откровение, которое Бог дает нам из Своего собственного существования. Заповедь любви говорит нам, кто такой Бог, как Он показывает себя нам, как Он смотрит на нас и как Он хочет общаться с нами. Это больше, чем правило, которое нас напрягает, это подарок, который делают нам. Бог не открывает себя нам, требуя, заставляя, навязывая, но давая себя. Если продолжать говорить о заповеди, вот в чем это выражение заповеди имеет посыл: Бог командирует (отправляет) нам любовь, то есть Он посылает ее нам, Он дает нам. И если мы открыты для этого откровения, очевидно, что Его свет не может не отразиться в нас. Таким образом, следует понимать слова «святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш», которые Иисус воспроизводит, говоря: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».
Ясно, что быть святыми со святостью Бога или совершенными с Его совершенством, это абсолютно выше наших сил, и что мы не сможем достичь этого даже если приложим еще больше усилий. Поэтому что-то подобное возможно только в том случае, если мы получим это как дар. Таким образом, заповедь любви – не прежде всего обязанность исполнения, а скорее возможность участия в божественной жизни: это сама жизнь Бога, действующая в нас.
Полнота откровения божественной жизни осуществилась в личности Иисуса Христа. Именно Иисус отражает и воплощает (делает плотью) святость и совершенство Бога в нашем мире. Именно Он делает достижимым, конкретным и возможным то, что кажется невозможным только человеческим силам. Потому что, если мы принимаем откровение и дар Божий и воплощенное присутствие Бога в Иисусе из Назарета, если дадим Ему войти в нашу жизнь, то ясно, что что-то должно измениться в нас. И не волшебным образом, автоматически и без нашего участия. Исходя из дара Божьей любви нравственное измерение также имеет положительный ответ на полученный дар. Дело в том, что Бог обращается к нашей свободе, а свобода человека это прежде всего ответственность, то есть свобода, отвечающая на предыдущий призыв.
Если мы хотим быть отражением святости Бога, которая осветила нас, это не может не выражаться в новых действиях, которые Слово Божье сегодня подробно описывает.
Прежде всего нужно изгнать ненависть из наших сердец. Не «ненавидеть в сердце брата своего» означает, что, хотя иногда негативные чувства возникают в нас спонтанно (например, когда мы чувствуем себя несправедливо обиженными, оскорбленными и т. д.), мы не должны допускать, чтобы это негативное чувство оседало в наших сердцах, как постоянное отношение, которое направляет наши мысли и наши действия. Скорее так: на зло, исходящее от нашего ближнего, соответствующим ответом (благодаря Божьей святости, отраженной в нас) должно стать исправление брата, чтобы он исправился. Это конкретный способ отвечать на зло добром. Текст книги Левит здесь подчеркивает отношения с самыми близкими, которые являются членами нашей семьи и, прежде всего, членами народа Израиля. В Евангелии Иисус универсализирует это требование и распространяет его на всех без исключения. Первым шагом этой универсализации является преодоление старого закона Талиона, который выражает определенную степень пропорциональности в отношениях справедливости, когда речь идет о компенсации за полученный ущерб. Закон Талиона предполагает определенный прогресс, поскольку он ограничивает стремление к мести, которое имеет тенденцию умножать перенесенное оскорбление (как в случае с диким законом Ламека, см. Гн 4, 23-24). Но опыт подсказывает нам, что месть, даже если речь идет о сдерживании в пределах пропорционального и справедливого ущерба, порождает дьявольскую и растущую динамику, которая не знает конца, если только ей, наконец, не противостоит акт позитивного прощения. Иисус противопоставляет закону Талиона эти требования, которые кажутся нам настолько чрезмерными и невозможными, и которые нам кажутся пассивными уступки перед лицом зла и несправедливости, но которые в действительности, еще раз, отражают то, как Бог отвечает на зло и человеческий грех. Речь здесь, поэтому, не идет о юридических предписаниях, которые оставляют преступление безнаказанным, а о предпринятых активных действиях, которые пытаются ответить на зло добром.
Смотря на меры Талиона, уже книга Левит (и сам Иисус, который, как мы уже говорили раньше, цитирует книгу Левит в другом месте) предлагает нам положительные меры: любить ближнего как самого себя. Потому что любовь также направлена и на самого себя, поскольку у нас есть не только склонность, но и обязанность заботиться о собственном благе, исправлять свои недостатки, заботиться и развивать дар, который Бог вложил в нас. Эти меры – это то, что мы должны применять к нашим ближним, которыми, по книге Левит в первую очередь являются наши родственники, а Иисус простирает это повсеместно. В действительности, вторую часть цитаты, которую Матфей вкладывает в уста Иисуса: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», невозможно найти в античном Законе, но она выражает бедность арамейского языка, который использует глагол «ненавидеть» чтобы указать на границы своей любви («ненавидеть» означает «не отдавать предпочтение», «не пользоваться благосклонностью»; ср. Быт 29:31; Лк 14:26). То есть, если в Ветхом Завете универсальность любви указана только косвенно (особенно в пророках), и ей приказано любить своих и содержать ответ врагу в рамках закона Талиона, то теперь Иисус расширяет категорию «ближних» до всех, в том числе и до врагов. И это нравственное «невозможно» становится возможным только в том случае, если мы смотрим на других через призму Бога, Отца Иисуса и Отца всех, в свете Которого мы можем открывать других по-новому. И давайте не будем забывать, что не только враги – это наши братья (дети одного и того же Отца) и потенциальные друзья, но и то, что наши братья и друзья иногда становятся неожиданными врагами из-за неизбежных конфликтов, которые мы имеем именно с теми, кто ближе к нам.
Таким образом, ясно, что любовь, о которой здесь говорится, не сводится к простому чувству симпатии или своего рода «благизму», который закрывает глаза на конфликты и вражду. Как понять эту любовь, которую Иисус рекомендует нам и открывает в своей личности? Прежде всего, любовь – это утверждение другого как такового; и это утверждение включает в себя целый ряд нюансов, которые начинаются с уважения. Любить врага – значит отказаться от инсталляции в ненависти, которая приводит к отрицанию другого, и происходит от незнания и исключения другого, даже до уничтожения его. Не отрицая того, что по многим причинам существует вражда, глядя на другого через призму Бога-Отца, я обнаруживаю в нем брата и потенциального друга. Поэтому, не отказываясь от правосудия, я не оставлю его без поддержки, если он в этом нуждается, помирюсь с ним, если есть такая возможность, и помолюсь за него, если это единственная альтернатива, которую он мне оставляет. Эта рекомендация чрезвычайно полезна в наши времена, в которых кажется растет враждебность по отношению к христианству, и во многих местах усиливаются преследования (иногда кровавые, иногда бескровные) в отношении верующих. Это возможность ответить в подлинно христианском смысле, проверить подлинность нашей веры, очистить ее, если мы сводили веру к ряду культурных установок и определенных теологических и нравственных убеждений, более или менее скучных, без особого радикализма Нагорной проповеди.
Способность обнаруживать в наших врагах наших братьев, детей одного и того же Отца, говорит о том качестве любви, которое, как сказал философ Макс Шелер, подобно свету, который обнаруживает ценности скрытые в другом, и что взгляд, лишённый любви, не способен воспринимать. Истинная любовь не только не слепа, но, наоборот, является вершиной ясности. Совершенство нашего небесного Отца, к которому призывает нас Иисус (и которое Он несет в себе самом), – это любовь, которая не ограничивается нормами сосуществования замкнутой на себе группы, но которая разрушает границы и устанавливает связи даже там, где это кажется невозможным.
Способность отражать в нас совершенство любви Божьей делает нас, как напоминает нам Павел, храмами Бога, в которых обитает Дух Святой, Дух любви. Это больше, чем привилегия, это дар и исключительная ответственность. Как нам вести себя, чтобы сохранить и передать это присутствие в нас? Согласно тем же словам Павла во втором чтении, может быть уместно сделать обследование воздействий заповеди всеобщей любви внутри Божьего храма, который является Церковью, телом Христовым. Кажется, противоречием, что, провозглашая универсальность любви (к своим и чужим, друзьям и врагам), мы стремимся строить часовни внутри Церкви, которые конкурируют друг с другом и взаимно исключают друг друга. «Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее», сегодня мы можем понимать как разнообразие путей духовности, харизм, движений, тенденций (иезуиты и доминиканцы, фоколары и неокатехументы, Opus Dei и христиане за Социализм, консерваторы и прогрессисты …) все, если мы христиане, то есть от Христа, мы должны работать, чтобы признавать, ценить, любить друг друга: быть щедрыми и доброжелательными друг к другу, познавая дар, который каждый получил для блага всех без исключения; если необходимо, братское исправление (исправляя, но также позволяя исправлять и нас самих), чтобы исходя из этой мудрости любви и этой высшей свободы дать согласное и единодушное свидетельство об едином Господе и Боге Отце, которому мы все принадлежим.
Перевод: Алексей Сниховский