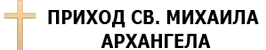Если не покаетесь… Проповедь о. Хосе Марии Вегаса на 3 воскресенье Великого Поста
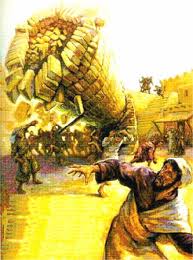
Обычно, в литургии cлова воскресной евхаристии существует прямая связь между первым чтением и Евангелием: ветхозаветный отрывок может содержать обетование или прообраз, или срез жизни, обретающий в Иисусе Христе завершение или полноту. Сегодня эта связь видима не столь ясно, по крайней мере, на первый взгляд, хотя она там есть. Чтобы раскрыть её, следует сосредоточиться, прежде всего, на евангельском фрагменте целиком.
Иисус ссылается на два события того времени, которые, по всем признакам, глубоко тронули население Иерусалима, а возможно, и весь Израиль. Первое, совершённое рукою человека – суровые меры, принятые Пилатом против галилеян, вероятно, мятежников. Второе есть нечто случайное, некое «происшествие», обрушение здания, стоившее жизни восемнадцати человекам. Опираясь на эти события, Христос противостоит вошедшему в обычай способу понимания действования Бога в истории, разделяемому Его современниками (как подразумевают Его собственные слова), а возможно, и Его учениками (тогдашними, а быть может – по меньшей мере, отчасти – также и нынешними): Бог, мол, есть Воздаятель за грехи наши, а тогда выходит, что несчастья – малые и великие, естественные, случайные либо сотворённые рукой человека – толкуются как деяния дозволенные или даже Им же и вызванные нам в наказание, когда мы того заслуживаем. Не перестаёт тогда казаться парадоксальным, что жестокая длань великих преступников или слепая сила природы становятся орудиями мудрой и милосердной Божьей правды, хотя «наказанные» за неведомо какие грехи – почти всегда обычные люди, столь же виновные и столь же невинные, как и любой другой; в то время как, кроме того, истинные преступники (как Пилат сегодня), вдобавок, удаляются осыпаемы цветами.
Христос сталкивается с подобным искажающим образ Его Отца пониманием Бога и решает, воспользовавшись оным, помочь нам очистить тот Его образ, который есть у нас самих, а также выстроенную нами взаимосвязь между грехом и карой. Иисус извещает нас о том, что Бог действует не таким манером, соответствующим первобытному состоянию понимания опыта связи с божественным; Он не карает и не прибегает к жестокости, не применяет исторические или естественные несчастья, чтобы отправлять нам «предупреждения», что значило бы, что Бог предупреждает одних ценою жизни других; и напоминает нам, что спасение (или погибель) не приходит «извне», не зависит от случайных внешних событий, плохих или хороших, посредством которых Бог бы нас благословлял или же карал. Спасение и осуждение происходят изнутри нас самих – нашей способности к покаянию. Слова Иисуса: «Не думайте, что умершие были грешнее или виновнее прочих… но если не покаетесь, все так же погибнете» — нужно понимать в именно в этом смысле. Они не были покараны за определённые грехи, но если мы (быть может, чувствуя себя в безопасности) не отрекаемся от наших и не желаем каяться, куём нашу собственную погибель. Ибо не Бог карает, а мы сами себя караем, отдаляясь от источника Блага и Бытия.
Третье воскресенье Четыредесятницы это воскресенье очищения. Очищение Крещением (евангелие самаритянки в цикле A) и очищение храма (в цикле B) несут с собой очищение нашего представления о Боге и нашего собственного образа посредством покаяния (цикл C, года нынешнего). Такое двойное очищение сущностно важно для того, чтобы жизнь наша была не бесплодной, но плодотворной. Притчей о бесплодной смоковнице Иисус подкрепляет призыв изменить жизнь. Отдалённая от Бога жизнь подобна неплодоносящей смоковнице: она бесполезна, и рок её – погибель. Речь не о внешнем принуждении, более или менее согласном с законом или же самочинном; здесь вот в чём вопрос: быть или не быть верным собственной истине? Как бы то ни было, то, что могло казаться угрозой (оной, на самом деле, не будучи, ведь древо, не дающее смокв, вряд ли можно назвать смоковницей), в конце концов, оказывается притчей о милосердии Божием, внимающем ходатайству виноградаря (Самого Христа), обещающего окопать смоковницы и обогатить чернозём подле её корней Словом, чтобы дать ей возможность покаяться и принести плоды.
Виноградарь, ходатайствующий за смоковницу, не может не напомнить Моисея, ходатайствующего за свой народ, когда последний нарушил завет и отдалился от Бога, став на краю погибели, ведь не что иное, как завет с Богом и созидает его как народ. Это вяжется с первым чтением. Появляются здесь чётко вырисованные мотивы очищения образа Божия и значения истинного покаяния. Это не исключительно частное, индивидуальное деяние, а напротив, по сути своей межличностное. Первым условием является откровение Богом Себя Самого, в котором Он являет, Кто Он, Его истинное имя: «Сущий» — ныне и впредь, Бог верный, исполняющий обетования. В подлинном опыте богообщения сущностно важно дать Богу говорить, сказать нам о Себе, вместо того, чтобы налагать на Него наши собственные схемы и представления (способные привести к тем самым идолопоклонническим изображениям богов жестоких и мстительных). Важно уметь прислушиваться. Христос обогащает нашу почву своим Словом, идущим к корням нашей жизни; но и нам нужно суметь прислушаться. Это порой не лишено трудностей, ибо Слово, с Которым Бог обращается к нам, ни удобно, ни оставляет нас как есть. Покаяние значит быть свободным, но также и превзойти себя самого, оставить позади маленькие личные интересы: Моисей прекращает быть прислужником и пастухом у своего свёкра Иофора ради обращения в орудие освобождения своего народа, свободного служителя собственных братьев, угнетённых суровым рабством. Если неплодоносящая смоковница вовсе ни на что не годен, тот, кто кается, услышав Слово Божие, годен весьма и весьма: годен для братьев, особенно страждущич, чья нужда сильнее.
Последнее помогает нам понять кое-что из того, чем мы озаботились в начале. Если это не Бог вызывает несчастья посредством слепых природных сил или рук людских, что же Он всё-таки делает при такого рода событиях? Христос жизнью своей и смертью (в предвидении близкой уже Пасхи, к которой мы идём вместе с Ним) говорит нам, что Бог кое-что да делает, и весьма важное: Он разделяет участь жертв, страдая и умирая вместе с ними. Бог принял участие и, чтя человеческую свободу, даже применённую во зло, порешил быть там, где люди страдают и умирают – страдая и умирая. Таким образом, Он говорит, что смерти сии и страдания не бессмысленны и не бесполезны, что у них есть смысл, ведь они часть страстей Христовых и включены в Его замысел Любви: Бог любит нас даже в страдании, ибо нет на свете большего выражения любви, чем Христова Смерть на Кресте.
Разумение сего очищает. Нас очищает страдание, коего не нужно искать, но оно всегда так или иначе к нам приходит. И это очищение позволяет нам принести плоды жизни, плоды благих деяний, плоды милосердия. Ведь если правда, что мы сгинем, коли не покаемся Богу, правда и то, что покаявшись, не только спасем жизнь собственную, но и положим себя самих на служение страждущим, став для них выражением и орудием Божьего Промысла, исполняющего обетования.
О. Хосе Мария Вегас, C.M.F.
Перевод: с. Денис Малов, C.M.F.