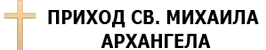6 воскресенье рядового времени. Радости и горести

Carl Bloch, 1890
Сегодняшнее Евангелие географически точно вписывает речь Иисуса: сойдя с горы вместе с Двенадцатью, стал на ровном месте. Известно, что гора есть место явления Божия, как Моисею на Синае, место видений, как в Преображении, или место молитвы, как в занимающем нас случае. Иисус удалился на гору для молитвы и, проведя в молитве ночь, избрал Двенадцать (ср. Лк 6, 12-17). Подобно новому Моисею, он, сопровождаем учениками, сходит с горы, дабы встретиться на равнине с людьми всякого происхождения и положения, своими и чужими, ведь новый народ Божий, чьим ядром являются Двенадцать, открыт каждому. «Программная» проповедь, помещённая Св. Матфеем на горе (как Откровение нового Евангельского Закона), представлена Св. Лукой как имеющая место на равнине. Дело в том, что равнина – это такое пространство, на котором происходит сообщение того, что стало богооткровенным на горе (как, например, Моисей сообщает Израилю Синайские откровения), а ещё это такое место, где человек чувствует себя уверенно, безопасно пред натиском врагов, ощущает себя спасённым: “Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне» (Пс 17, 20).
В чём же заключается спасение, которое сообщает Христос на этом открытом пространстве и «возведя очи свои на учеников своих»? Первое поверхностное прочтение этой «равнинной проповеди» может нас озадачить. Кажется, Иисус восхваляет все те обстоятельства, от которых человек, понукаем естественным порывом, склонен бежать: бедность, нужда, печаль, гонения, отвержение; и в то же время, судя по всему, проклинает другие, к которым мы ощущаем естественную склонность: благосостояние и экономическая стабильность, удовлетворение нужд, радость, признание. И если блаженства, единственный предмет проповеди у Матфея, у Луки сопровождены чередою «горестей», или сожалений, это только укрепляет нашу озадаченность, ощущение того, что происходит некий полный «ценностный переворот», очевидное противоречие наиэлементарнейшим нашим стремлениям. Не подтверждают ли эти слова Христа ужасающее обвинение христианству, выдвинутое Ницше и многими другими, объявляя его врагом жизненных радостей, отрицателем самой жизни, а потому – врагом человека, должного отрекаться самого себя во избрание Бога? Слова Иеремии в первом чтении, казалось бы, подтверждают эту непреодолимую вражду между Богом и человеком: как будто для доверия к Богу необходимо усеять недоверием отношения с человеком!
Такое толкование, хоть и подкреплено мнениями превосходнейших исследователей религии, не перестаёт грешить простоватостью, помещая все желания и нужды человека на один тот же уровень. Человек же есть творение сложное, в нём существуют не только различные желания и нужды, но и различные уровни глубины, а значит, и удовлетворения одних и других. Христос приглашает нас отгрести на середину озера, отплыть на глубину. Так вот, глубоководье, как известно, находится в открытом море, называемом по-латыни «высоким морем» (отсюда латинский святоиеронимов перевод «duc in altum»). Есть некое точное соответствие между высотой и глубиной: любая ценность тем выше, чем глубже обеспечиваемое ею удовлетворение. Не все виды удовлетворения, которые может испытать человек, тождественны, не всех их можно измерить одним аршином. Обыкновенное чувственное удовольствие не то же самое, что расплывчатое ощущение доброго здравия или возвышенное эстетическое наслаждение перед произведением искусства, или радость, испытываемая при важном интеллектуальном открытии, или «удовлетворение от исполненного долга» (или, просто-напросто, от сделанного кому-либо добра). На вершине этих уровней удовлетворения находится блаженство, внутренний мир от осознания того, что ты любим и принят Богом, спасён. И чем глубже удовлетворение, тем оно устойчивей, менее зависимо от внешних обстоятельств. Посему прекрасно может выйти так, что один и тот же человек будет испытывать – в то же самое время, но на разных уровнях – удовлетворённости и страдания, которые, не будучи равнозначны, ни взаимоуничтожаются, ни взаимоуравновешиваются. Человек, обременённый навязчивым поиском удовольствий, не прекращающий накапливать чувственные наслаждения, весьма часто ощущает внутреннюю пустоту, пресытившись жизнью, питает к ней лишь отвращение; тогда как мудрец, или святой, может испытывать такое душевное умиротворение, какого не способны отнять ни слабое здоровье, ни экономическая несостоятельность, ни известная физическая боль.
Существовала в древнем религиозном сознании такая идея, что-де материальные блага (здоровье, богатство, успех в обществе) суть признак блаженства и божьего благословения (что, в свою очередь, указывало на нравственную безупречность), в то время как любая неурядица на самых поверхностных уровнях, будучи выражением божественной кары, должна находиться в связи с каким-либо нравственным проступком обездоленного, о котором даже он сам мог и не знать. Такой подход получил название ретрибутивной теории, или принципа воздаяния, иначе, закона талиона.
Слова Иисуса в «Блаженствах и Горестях» предполагают выраженный отход от такого мировоззрения и призыв избрать ценности, коренным образом несущие спасение.
Во-первых, объявив блаженными нищих, алчущих, плачущих и гонимых, Христос провозглашает, что ни одно из этих несчастий не есть признак ни вины, ни того менее, отвержения или кары Господней; а равным образом и горести утверждают, что благословлённость земными благами не обеспечивает сама по себе благословения Божия. Но не нужно понимать горести как бесспорное и безоглядное осуждение экономического благосостояния, радости и общественного признания. Бог уготовал блага земные нам на потребу, и было бы абсурдно счесть «дурным» то, что представляется нашему интуитивному взору «благом», удовлетворяя действительным потребностям. То, что это так, легко понять, если задуматься над тем, что Иисус подавал пищу голодным и исцелял больных, а также над тем, что одно из основополагающих выражений истинной христианской жизни (то есть, блаженства, уже начавшего действовать в этой жизни) это забота о страждущих, нуждающихся, угнетённых одиночеством или терпящих несправедливость. Если улаживание таких жизненных обстоятельств – настоящее выражение христианской любви, жизни «возродившегося во Христе», как можно считать их преодоление чем-то дурным или нежелательным?
Горести же скорее следует понимать как сожаления о тех, кто полагает своё окончательное спасение в этих видах благополучия или общественного успеха и делают из этого исключительную цель своей жизни, возводя эти блага – настоящие, но слишком мелкие для человеческого сердца – себе в боги. Поступающий так, во-первых, ставит себя в зависимость и рабство этим благам, кои ему внешни; кроме того, пренебрегает своими боле глубокими нуждами, требованиями неподдельности, а также – с лёгкостью! – справедливости (стремящийся исключительно к материальным благам взыскует их любой ценой, во что бы то ему ни стало), и, наконец, отгораживается от Единственного, кто может безвозмездно даровать ему истинное блаженство – от Бога, творца и начала всех благ.
Схожим образом, провозгласив блаженными нищих и алчущих, плачущих и гонимых, Христос не превозносит этих «отрицательных ценностей», как и не говорит, что мы, мол, должны направить наши усилия в этом направлении, а провозглашает, что Бог не только не отвергает тех, кто такое претерпевает, но и превращает их в предмет своего предпочтения, становится на их сторону, разделяет с ними их положение. Окончательное спасение, таким образом, совместимо со страданиями, которые можно испытать на этой земле, но только в том случае, если мы уповаем на Бога, а не на плоть, как очень правильно (как мы сейчас понимаем) напоминает пророк Иеремия.
Чтобы уловить смысл сказанного, важно внимательно прислушаться к ссылке Иисуса на пророков. Вопреки расхожему мировоззрению, непосредственно связующему благословение Божие с материальным благосостоянием, пророки – люди Божии, которым из-за верности Слову и неподдельности жизни, пришлось претерпеть гонения и муки. Но несмотря на несчастья, что им выпало выдержать, мы считаем их великими, достойными восхищения и подражания, эталонами жизни, которую стоит прожить. Напротив, лукаво злоупотребившие Словом во обогащение (лжепророки), у кого поэтому в жизни всё было хорошо, может быть, и достойны зависти, но никак не восхищения и не подражания. Указав на гонимых и поносимых пророков, Иисус косвенно намекает на собственную судьбу, на грядущие страсти и смерть вне стен града. Иисус не только объявляет блаженными нищих, алчущих, плачущих и гонимых, но и разделяет с ними судьбу, принимает и делает его своим, просвещая его изнутри. Итак, не только в «богословском» или вероучительном смысле провозглашает Он предпочтение Бога Отца к нищим и гонимым, но и воплощает его в Своём собственном лице. Во Христе возможно преодолеть кажущееся противоречие между Богом и человеком, о котором говорит Иеремия: возможно довериться Богу, доверяясь человеку Иисусу Христу. В нём проявилось благословение и спасение Божие, которое не может отменить, которому не может воспрекословить никакое несчастье, никакая стеснённость в материальном: ни даже смерть, ибо она также была Им воспринята. Воскресение, так настойчиво подчёркиваемое Св. Павлом в его Послании к Коринфянам, окончательно проясняет провозглашённые на той широкой и открытой равнине блаженства. Христос, умерший и воскресший – вот источник благословения и счастья, блаженства и спасения для всех уверовавших в Него.